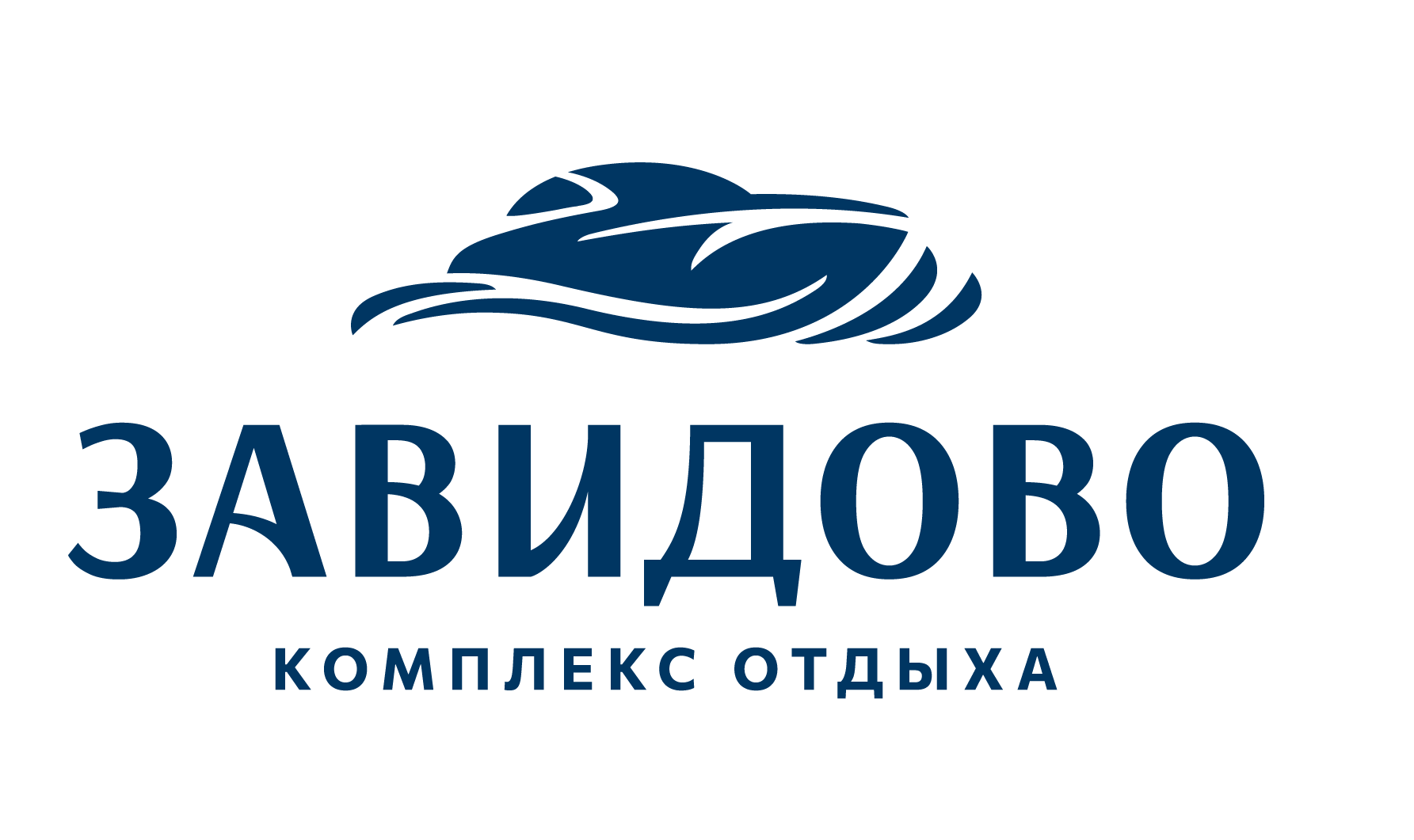Архитектура создает мир, в котором мы живем, да и каждый из нас, обустраивая пространство вокруг себя, создает свой личный мир. При этом темпы и возможности современного строительства позволяют строить такие «новые миры» с невероятной скоростью и в гигантских объемах. И каким будет этот мир – большой вопрос. Об особенностях языка архитектуры, рассказывающего об эпохах, человеческих судьбах и настроениях общества, а также о том, какие вызовы будущего уже решают архитекторы, рассказал ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский.
– Дмитрий Олегович, расскажите, какие тенденции актуальны для архитектуры нашего века и какое отражение эти тенденции находят в деятельности МАРХИ?
– Архитектура XX века, как, впрочем, и он сам – явление противоречивое. На протяжении всего столетия архитектура развивалась в двух противоположных направлениях: поиске новых образов и обращении к классике. Например, в начале XX века весь мир, и Россия не исключение, захватило стремление к современности – речь идет о модерне, который в Германии получил название югендстиль, Франции – ар-нуво или «новое искусство», Англии – либерти. Модерн, с его тягучими, растительными, органическими, естественными формами продлился недолго – всего одно десятилетие. Ровно столько времени потребовалось на поиск новых изысканных, подчеркнуто художественных форм. Известнейшими мастерами модерна в нашей стране стали Федор Шехтель, Лев Кекушев, здания которых и до сих пор украшают наш город.
В 1910-е годы Россия вновь обращается к классицизму – так проявляется ностальгия по ушедшему времени. Особняки Н.А.Второва, В.Н.Грибова – образцы удивительного классицизма – очень точного, романтического, театрализованного и невероятного изысканного. Однако эта ностальгическая картина была уничтожена, взорвана, когда в 1920-е на сцену вышел авангард. Русский авангард, в особой степени повлиявший на весь мир, за тысячелетнюю историю нашей архитектуры был, пожалуй, единственным периодом, когда русская архитектура встала во главе мирового зодчества.
МАРХИ, который тогда назывался Архитектурным факультетом Всероссийских художественно-технических мастерских, кстати, недавно отметивших столетие, был тесно связан с Баухаусом – Государственной школой строительства и формообразования в Германии. Наши архитектурные школы вместе создали новый образ мира – бетонные здания простых форм и без деталей. Такая аскетическая архитектура, где за экспрессию и выразительность отвечают объем и масса, заменила растительные мотивы модерна и классический декор классицизма. То была архитектура будущего, отвергающая прошлое.
В 1930-е годы история дает новый виток. Граждане Советского Союза возвращаются к традициям: снова наряжают елки, празднуют Новый год. На этом фоне появляется советский классицизм: сталинские дома, «высотки», другие постройки, очень качественные по своей архитектуре.
Далее на сцену выходит советский модернизм, благодаря которому появились неплохие постройки, например, Дворец пионеров в Москве. Но, к сожалению, победила самая простая и дешевая панельная архитектура, перекорежившая наши города.
Исторические качели между классикой и авангардом, между уникальной архитектурой и массовой, между ностальгией по прошлому и стремлением в будущее – вот чем стал XX век в архитектуре.
– Такое положение дел было характерно исключительно для России?
– Это противостояние стилей было мировой тенденцией. На Западе всегда были богатые люди, соответственно, и уникальная архитектура особняков. Эта культура никогда не вымирала, напротив, она рождала чрезвычайно интересные современные авангардные здания – стеклянные или вписанные полностью в природу.
В Америке XX века практически не строили дорогие особняки, не в пример веку XIX с еще более роскошными особняками, чем в России. Вандербильты и Рокфеллеры в ранних поколениях заказывали фантастически дорогие особняки, в отделке которых использовались тысячи квадратных метров белоснежного мрамора. Только вдумайтесь: чтобы осуществить задуманное, открывали древние карьеры, использовавшиеся на строительстве Карфагена, мрамор перевозили по специально построенной железной дороге, далее – на кораблях и, кстати, железную дорогу потом разбирали, чтоб никто не воспользовался больше этим великолепным камнем.
– Какой основательный подход!
– Да, у нас тоже Морозовы, Мамонтовы, Хлудовы, которые любили создавать необыкновенные здания, но до такой степени строительного буйства они не доходили.
– Вы особо выделяете заказчиков, но до сих пор не упоминали архитекторов, почему?
– Почему я говорю об этих людях – Морозовых и Мамонтовых, Рокфеллерах и Вандербильтах? Для архитектуры невероятно важен заказчик. Для создания гениального произведения одного архитектора недостаточно – нужен гениальный заказчик. Но и задача архитектора – воспитать вкус у заказчика.
При разговоре об Афинском акрополе недостаточно упоминать Фидия, Иктина и Калликрата, которые строили Парфенон и украшали его скульптурами. Без Перикла и его возлюбленной Аспасизии ничего не получилось бы.
Поэтому у нас проблемы – заказчик не воспитан еще. В XVIII веке в России или в V веке до нашей эры в Греции заказчики были гораздо более образованы в архитектурном отношении. Они знали, что такое хорошая архитектура, и хотели этой красоты, понимали, что жизнь – конечна, а потрясающая архитектура – нет.
–Кого можно выделить в истории России как гениального заказчика?
– У нас в России таким была Екатерина II, и самые поразительные дворцы создавались для нее.
– А был ли любимый архитектор у Екатерины?
– Да, конечно, Чарльз Камерон. И с ним очень было не просто договариваться. Когда Камерон строил Павловск, жена Павла Петровича, будущего императора, говорила своему управляющему: «Передайте Камерону, чтоб он не говорил в таком тоне с Павлом Петровичем. Это может плохо кончиться…», – и, правда, это плохо кончилось, его выгнали в конце концов. Я не за то, чтоб все ссорились между собой, но я за то, чтобы и архитекторы, и заказчики понимали, что для того, чтобы создать шедевр нужно вложить свою душу создаваемое здание.
– А что значит – душу?
– Свои мысли… Банкир Сергей Рябушинский захотел, чтоб дом на Никитской, где сегодня располагается музей Горького, был как бы помещен в подводное царство. В тот период состоялась премьера оперы «Садко» со знаменитыми декорациями, в театре Саввы Мамонтова, все этой темой очень увлекались. Федор Шехтель и создал соответствующий образ: лестница в виде падающей со второго этажа волны, у двери галька разбегается – только вода морская ушла, люстры наверху – плавающие осьминоги и медузы, а на фризе дома – водные растения.
Необязательно жить именно в подводном мире (прим: смеется), но в каком-то мире жить обязательно, поэтому архитектура – это, прежде всего, искусство, которое создает мир. Мир для каждого и общий – для всех нас.
– Если мы будем говорить о сегодняшнем дне, какие вызовы стоят перед архитектурой?
– За всю историю человечества не было такого момента, когда архитектура нужна была так остро, как сейчас. Архитектура чем-то сопоставима с ядерной бомбой: она способна уничтожить планету. Застройте всю планету панельными домами – Земля просто умрет и биологически, и душевно, и физически, и морально. Конечно, строительство у нас гигантское – 120 миллионов квадратных метров в год… и это только в России. Такой возможности изменить планету, как сейчас, ранее не существовало и мы со страшной скоростью трансформируем окружающую среду. Поэтому мы должны сохранять то, чем уникальна наша земля: экология, живой характер...
– Сложно архитектуру просто приравнять к строительству…
– Верно, в строительстве лозунг – «нужно сделать», а про архитектуру можно сказать: «нужно сделать, чтобы не навредить» или «сделать, чтобы было лучше».
– Расскажите о вызовах, которые сегодня стоят перед архитектурой, как в части застройки городской инфраструктуры, так и при освоении труднодоступных мест, например, Арктического региона. Готовы ли студенты, которые сейчас проходят обучение, к решению этих вызовов?
– Огромные территории нашей страны представляют собой вечную мерзлоту, по которой, если один раз проехать трактором, почва не восстановится сто лет. На севере Красноярского края все исчерчено следами человека – то есть Арктики становится все меньше и меньше, ее надо сохранять. Может быть, даже в большей степени, чем все остальное.
Поэтому для Севера и Арктики в МАРХИ создали специальную Кафедру арктической архитектуры. Мы придумали немного утопический, но реализуемый проект, которым даже силовые структуры заинтересовались, особенно Пограничная служба. Это шагающий город на специальной платформе, который не остается на одном месте, а с помощью механизмов медленно движется. Такое решение вполне устраивает и нефтяников, и пограничников, и рыболовов. По нашему расчету, опоры раздроблены и обеспечивают напор, сопоставимый с напором копыта оленя.
– Это очень впечатляет!
– Да, это утопия, мечта, но это то, что нам нужно. Может быть, не так радикально, но незаселенные территории очень ранимы, вообще наша планета очень ранима.
Допустим, Греция. В Античную эпоху она была зеленая – вспомните мифы, а потом козы съели листья. Греческие горы изменили климат и пейзаж. И это далеко не Арктика. Наша планета вся целиком настолько прекрасна, что архитектура должна быть такая же прекрасная, и щадящая естественную красоту. Природа, земля, планета за это отплатит, потому что урбанизированная среда в конечном итоге обходится очень дорого, не только за счет строительства, но и человек в ней другой.
– Уже более 100 лет ГлавУпДК при МИД России бережно восстанавливает особняки, находящиеся в ведении нашего Предприятия. Как Вы оцениваете степень сохранности исторического облика столицы?
– О, случай ГлавУпДК – уникальный. Речь идет об особняках, сохранившихся вместе с мебелью, атмосферой и образом жизни. В зданиях, где сегодня располагаются посольства и резиденции, в Доме приемов МИД России на Спиридоновке, сохранилось совершенно особое чувство, представление о людях. Все это воплощается и в отношении к пространству.
Особняки в ведении ГлавУпДК рисуют уникальный образ Москвы, совершенного, прекрасного города Серебряного века. И этот образ сильнее, чем в Санкт-Петербурге, чем где бы то ни было. Поэтому это наследие, сбереженное ГлавУпДК для Москвы, имеет особое, принципиальное и исключительно большое значение.
Это настоящая архитектура, отражающая образ жизни конца XIX – начала XX века. И за это я очень благодарен ГлавУпДК! Кстати, с этим Предприятием нас связывает теплая дружба – я выступил автором книги для ГлавУпДК – «Московские особняки». Надо сказать, что совершенно выдающиеся памятники удалось сохранить.
Говоря о реставрационной отрасли в целом, отмечу, что результаты последнего десятилетия, можно оценить только положительно. Департамент культурного наследия города Москвы вообще считаю совершенно великолепной организацией, одной из лучших в мире по охране наследия, если не лучшей. Сотрудники Департамента очень профессионально подходят к своей работе, с фантастически правильным и хорошим человеческим отношением к архитекторам-реставраторам, исключительно дружелюбно, но при этом требовательно.
– Расскажите, пожалуйста, как в России, на Ваш взгляд, обстоят дела с сохранением памятников и мировом опыте в этой сфере?
– Мы не всегда представляем объем достижений России в области реставрации и сохранения объектов культурного наследия. Например, в области реставрации зданий авангардистов мы на первом месте в мире, да и массу построек конструктивизма сумели хорошо отреставрировать раньше, чем кто бы то ни было: Дом Мельникова, дома-коммуны и дом Наркомфина. Отдельно скажу о Текстильном институте – самом большом доме-коммуне, построенном ярким архитектором коммунизма, фантастическим Иваном Сергеевичем Николаевым (Ректор Московского архитектурного института в 1945-1947 и 1958-1970 годах).
Кроме того, в Москве одними из первых стали сохранять и реставрировать ансамбли ар-деко и неоклассицизма середины XX века – ВДНХ тому пример. Более крупного проекта восстановления и сохранения его в мире просто нет. Это огромное достижение, архитектура там потрясающая – она войдет во все учебники будущих столетий.
– Смотря в прошлое, кажется, что Москва в начале XX века была более интересным городом?
– Москва была поразительным городом. Жаль, но мы, как и большинство столиц мира, потеряли многое. Например, Садовое кольцо – почему оно называется Садовым? Не потому, что в середине – бульвары, их там просто не было, а из-за частных садов, разбитых у домов, слитых в кольцо. Они, со своими павильонами и беседками, создавали невероятной красоты линию города. Прежде чем это все ломать, к счастью, еще в 20-е годы все это было отфотографировано обществом «Старая Москва».
Великий французский поэт Поль Верлен, совершенно потрясенный Москвой, написал: «Я был на всех континентах, но такой поразительно роскошной феерии, как Москва, я нигде не видел. Эти сотни куполов и шпилей в лазури, в окружении цветущих садов…». Он, абсолютно посторонний России человек, говорил: «… люди, которые живут постоянно в такой удивительной красоте, не могут сами не становиться творческой личностью».
Москва действительно была таким поразительным городом, но я понимаю, сохраниться она не могла. Она очень быстро росла, постоянно менялась, к тому же еще наши социальные катаклизмы…
– Большое количество исторических зданий включаются в современность благодаря приспособлению под современное использование. Как вы относитесь к этой практике?
– Тут есть разные моменты, все-таки у нас в Москве очень мало сохранилось подлинных интерьеров, значительно меньше, чем в Петербурге, к сожалению. Я не имею ничего против приспособления зданий под современные нужды. Но приспособление – творческий процесс, который требует индивидуального подхода, вкуса и любви ко всему тому, что можно сохранить. Ведь подлинные артефакты – это настоящие следы истории нашего города и страны. Городскую среду надо не только сохранять, но и восстанавливать. Мне кажется, историческая недвижимость – символ капитализации. И, если бы мы больше внимания уделяли благоустройству, то и жили бы лучше.
Кстати, у нас в МАРХИ есть кафедра ландшафтной архитектуры. Мы специально разрабатывали разнообразные сады – внутриквартальные, в том числе и для типовых домов. Подбирали растения, за которыми можно даже не очень ухаживать, снижая финансовые издержки.
– Поговорим о людях, которые выбирают специальность архитектора. Видите ли Вы в молодежи тех, кто готов осваивать новые территории, создавать, как Вы говорите, утопические проекты, создавать что-то абсолютно новое, но сохраняющее окружающий мир?
– Вы знаете, у меня есть претензии к архитектуре, но не к молодым людям, студентам. Учиться на архитектора, как и на врача, трудно. К нам, в основном, приходят трудолюбивые, одаренные личности, лентяев практически нет, а если и отлынивают от работы, то чаще от усталости.
Архитектуре, как и любой творческой профессии, надо учиться. Нельзя сыграть на фортепьяно, не зная, как поставить руки на клавиатуре. Так и здесь: осваиваешь карандаш, «ставя руки и глаза», учишься пропорциям, развиваешь художественную интуицию, конечно, работаешь с программным обеспечением. Но, кстати, современные технологии карандаш полностью не заменят.
Архитектор должен и чувствовать, и рассчитывать – это особенность профессии. Если чувствовать люди могут и работать готовы, то научить свободно и продуктивно думать – очень трудно. Мы изо всех сил пытаемся это сделать! Как получается, решать не берусь. Но есть очень способные архитекторы, быстро развивающиеся.
– Это дорогого стоит. Расскажите, как формируется собственный стиль и видение? Это насмотренность или среда, в которой формируется личность?
– Я из семьи архитекторов в третьем поколении, родители начали знакомить меня с памятниками архитектуры, красивыми местами с трехлетнего возраста. Поэтому я в некоторой степени болезненно воспринял пандемийные ограничения, когда мы не могли отправлять студентов на практику.
Но и не только! Важно говорить о том, что красота – понятие многослойное: это и замысел, и то, как постройка увязывается с природой и окружающей средой, и то, как эта красота меняется с годами. Конечно, нужно чувственно изучать историю, пытаться проникнуть в характер зданий, городов, пейзажей, эпох. И при этом смотреть на мир с высокой степенью знания – накладывать все увиденное на шкалу истории.
– Есть ли у вас любимый исторический период?
– К сожалению, у меня нет любимого периода. Я ощущаю себя больше историком, я историк архитектуры, конечно (смеется).
Если бы я мог прожить жизнь заново, я бы все-таки хотел стать чистым историком: изучать развитие и ход истории. Смены эпох и людей настолько увлекательная и интересная штука. И об этом говорит архитектура. Афинский акрополь, о котором мы уже говорили, реставрируют несколько столетий и каждые 10 лет он выглядит по-другому, сейчас – как зебра. Доделали Парфенон, очень точно, дополнили кристально белым мрамором. А другой, подлинный мрамор за 2500 тысяч лет стал кремовым, телесным. Может быть, солнце сравняет, конечно, но не потребуется ли для этого тысяча лет?
Так что каждая эпоха создает для себя свой образ прошлого, свои образы архитектурных памятников. Даже наши особняки московские, они тоже живут рядом, живут благодаря тому же приспособлению, реставрации, отношению к ним: интересу или потере интереса, и людям, живущим в них и вокруг. И эта жизнь памятников, человеческая история архитектуры, меня в наибольшей степени и привлекает.
Хотя я очень люблю разные эпохи: XVI век – Коломенское, или начало XX века – особняки, деревянные или каменные. Очень люблю Екатерининское время в Москве, но его трудно увидеть. Дом Пашкова, например, произведение реставрации советского времени – нелегко понять , что там от Екатерининской эпохи. Его столько раз переделывали, он горел и в войне 1812 года, и до этого, и после, там все меняли. Казалось бы: символ Екатерининской Москвы, а на самом деле реставраторами символ. Впрочем, совсем нетронутого в городе практически не бывает...
– Да, действительно, время идет вперед, а особняки стремятся поспеть за его ходом.
– И тоже живут: в Доме Игумнова когда-то был Институт мозга, а теперь – Французское посольство, где когда-то бывал генерал де Голль. Абсолютно разные образы зданий и энергетика!
– В завершение нашей беседы расскажите, пожалуйста, о своем любимом районе Москвы?
– Там, где родился: Арбатские переулки и, в частности, Трубниковский, где я прожил до шести лет. Иногда специально езжу домой так, чтоб проехать мимо этого переулка, даже если он не очень по пути. У меня как-то сердце сразу заходится, и я приезжаю домой в лучшем настроении, и близкие не так страдают от моего характера.